Выступая на заседании «Меркурий-клуба», экс-премьер, один из наиболее уважаемых российских политиков Евгений Примаков подверг резкой критике политику правительства Российской Федерации, возложив ответственность за печальное состояние нашей экономики на «неолибералов».
Его доклад звучит приговором либеральной политике в экономике и рекомендуется к внимательному просмотру и прочтению.
Источник: http://www.wtcmoscow.ru/merk/news.aspx?id=9129
Примаков послал неолибералам черную метку
Вчера, 23:25 • Опубл.: Venganza • Просм.: 1260 • Комм.: 11 • События в России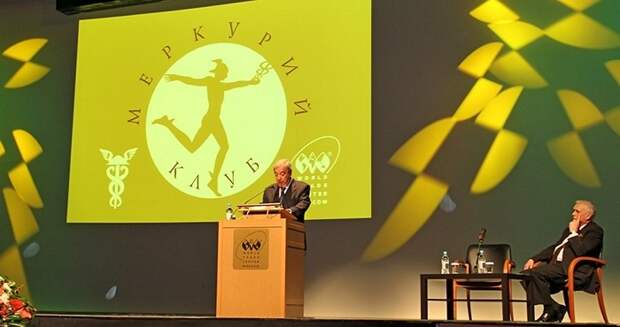
Гайдаровский форум прошел под пристальным вниманием прессы – каждое заявление министров и премьера обсуждалось и растолковывалось. Между тем прозвучавший накануне форума доклад бывшего главы правительства Евгения Примакова остался малозамеченным, хотя академик буквально огласил приговор нынешнему кабинету, разнес неолиберальную политику, идущую вразрез с курсом президента.
Ежегодный доклад Евгения Примакова на заседании «Меркурий клуба» был посвящен жесткой критике неолиберализма в России – в основном, его экономической политики. «Особенно острый характер приобретает проблема необходимости противодействия политике неолибералов в России», – заявил Примаков, фактически обвинивший неолибералов в противодействии курсу Путина. Академик перечислил главные пункты, по которым Кремль в минувшем году предпринимал усилия, чтобы не дать неолибералам восторжествовать в нашей экономике – в первую очередь, не прошел новый виток масштабной приватизации и не был допущен отказ от социальной политики, зафиксированной в майских указах президента.
Так получилось, что выступление Примакова прозвучало накануне открывшегося сегодня Гайдаровского форума, на котором отечественные министры обсуждали с экспертами актуальные вопросы российской экономики. При этом говорили они так, как будто никакой другой экономической теории, кроме либеральной, в принципе не существует, а что там заявил какой-то старенький дедушка, это его проблемы. Но проблемы не у Примакова.
84-летний ветеран российской политики, занимавший пост премьера 15 лет назад, – один из очень немногих людей в стране, имеющих вес как в элите, так и в народе. Впрочем, в элите Примакова ценят государственники и опасаются либералы, ведь именно он осенью 1998 года сформировал первое нелиберальное правительство в постсоветской России, когда нужно было вытаскивать страну после дефолта, устроенного верными гайдаровцами. И то, что говорит сегодня Примаков, – это не просто позиция ветерана, это мнение очень многих близких соратников президента. Не случайно на выступлении Примакова присутствовали среди прочих и Валентина Матвиенко, формально третий человек в государстве, и Владимир Якунин, глава РЖД и последовательный критик либерального доктринерства. И то, что глава сената после речи Примакова сказала, что он – один из немногих людей, которые обладают редкой привилегией говорить то, что думают, – вовсе не простая вежливая фраза.
 Ведь Примаков говорит практически то же самое, что думает, но не всегда позволяет себе публично сформулировать президент – неслучайно в своем выступлении Евгений Максимович постоянно цитировал Путина, просто для того, чтобы продемонстрировать, насколько расходятся установки президента и действия неолибералов. Фактически Примаков констатировал принципиальные расхождения между Кремлем и Белым домом – и эти расхождения идеологические, от них невозможно избавиться, просто договорившись о некой срединной линии, об общем курсе. Именно поэтому диагноз Примакова можно рассматривать как обвинительный акт либеральному курсу – тому, который упорно продолжает проводить правительство Медведева.
Ведь Примаков говорит практически то же самое, что думает, но не всегда позволяет себе публично сформулировать президент – неслучайно в своем выступлении Евгений Максимович постоянно цитировал Путина, просто для того, чтобы продемонстрировать, насколько расходятся установки президента и действия неолибералов. Фактически Примаков констатировал принципиальные расхождения между Кремлем и Белым домом – и эти расхождения идеологические, от них невозможно избавиться, просто договорившись о некой срединной линии, об общем курсе. Именно поэтому диагноз Примакова можно рассматривать как обвинительный акт либеральному курсу – тому, который упорно продолжает проводить правительство Медведева.Приговор должен огласить судья (позиция присяжных, то есть народа, и так известна), но президент Путин пока еще надеется научить министров другому мировоззрению, надеясь, что они способны освободиться от либеральных шор (проявлением этого стало и его сегодняшнее решение собирать у себя раз в две недели заседание кабинета в полном составе, то есть по сути он становится фактическим главой правительства).
Но способны ли они учиться? Судя по выступлениям на Гайдаровском форуме, некоторые даже не понимают, о чем идет речь.
Главная задача, которая стоит перед страной, – это реиндустриализация и развитие инфраструктуры. Примаков напоминает, что никто, кроме государства, не в состоянии стать локомотивом развития:
«Можно ли считать, что в современной России сам рыночный механизм без государственного участия уже способен обеспечить рост и сбалансированность экономики, а низкий уровень конкуренции достаточен для достижения технико-технологического прогресса? Однозначно нет. Конечно, это не означает навечного доминирования государства в экономике. Но это необходимо в определенные исторические периоды, а я считаю, что сегодня мы находимся именно в таком периоде. Помимо всего прочего наши неолибералы вообще не учитывают уроки кризиса 2008–2009 годов. Известно, что в США и в странах Евросоюза во время кризиса было усилено влияние государства на экономику. Такой тренд сохраняется».
Что-нибудь говорится об этом на Гайдаровском форуме? По большому счету нет, потому что, как правильно заметил Примаков, основа платформы неолибералов – уход государства из экономики. Хотя в своей речи Примаков не назвал поименно никого из неолибералов, понятно, что речь идет не просто об экспертах или советниках: академик говорил о костяке экономического блока правительства – Медведеве-Дворковиче-Шувалове. Именно они символизируют ту приверженность неолиберальному курсу, за который выступает немалая часть российской элиты и против которого не только подавляющее большинство народа, но и большая часть управленческой элиты.
Возвращение Путина в Кремль не входило в планы неолибералов – именно поэтому была предпринята столь массированная «болотная» атака. Не сумев остановить Путина, либеральная часть элиты была вынуждена подчиниться и сделать вид, что она будет проводить новый нелиберальный курс Путина, зафиксированный в его предвыборных статьях. Но по сути уже более полутора лет правительство занимается тем, что, на словах проводя государственнический путинский курс, в реальности пытается осуществлять все ту же либеральную политику, более того, даже пытаясь ее «углубить и расширить».
 Примаков заявил, что, «выступая за резкое и незамедлительное сокращение роли государства в экономике, наши неолибералы поставили своей задачей провести новую масштабную приватизацию государственной собственности, настаивают на максимальном охвате приватизацией важнейших для страны государственных предприятий», и напомнил, что для того, чтобы воспрепятствовать приватизационным планам, в июне прошлого года было принято постановление правительства, «содержащее коррективы, по сути исключающие приватизационные аппетиты. Такое решение не было инициировано изнутри».
Примаков заявил, что, «выступая за резкое и незамедлительное сокращение роли государства в экономике, наши неолибералы поставили своей задачей провести новую масштабную приватизацию государственной собственности, настаивают на максимальном охвате приватизацией важнейших для страны государственных предприятий», и напомнил, что для того, чтобы воспрепятствовать приватизационным планам, в июне прошлого года было принято постановление правительства, «содержащее коррективы, по сути исключающие приватизационные аппетиты. Такое решение не было инициировано изнутри».То есть Кремль просто заставил правительство изменить свою политику, помешал «распродаже Родины». Но это был частный, хотя и очень важный случай, а в целом идеология, отношение правительства к месту государства в экономике фактически не меняется. Что сказал сегодня на Гайдаровском форуме первый вице-премьер Шувалов?
«Важная вещь – чтобы не было под контролем государства такого количества предприятий и такого объема экономики. И, конечно, к 2020 году этот объем должен значительно сократиться. По окончании этого политического цикла, к 2018 году, необходимо стремиться к тому, чтобы не более четверти экономики контролировалось государством».
То есть уменьшить присутствие государства в экономике более чем в два раза за четыре года – что это, если не новая массовая приватизация? Государство – неэффективный собственник? Под эту старую мантру либералы 90-х уже распродали за бесценок половину госсобственности, включая ключевые сырьевые предприятия. Чтобы вернуть часть их в руки государства, ушло десятилетие, а теперь все запускаем по новой? И главное – в обмен на что государство будет избавляться от собственности, что получит взамен? Фантики американского производства? Для этого правительство хотело продать «Роснефть», во главе которой, по «случайному» совпадению, стоит едва ли не главный неофициальный оппонент неолибералов государственник Игорь Сечин? Госкомпании неэффективны? Об этом тоже говорил Примаков:
«Неолибералы, как правило, подчеркивают монополизм, свойственный естественным монополиям, но не обращают должного внимания на «олигархический» монополизм частного бизнеса, который, например, приводит через торговлю к росту цен на продовольствие и другие товары потребления населения. Вот в чем одна из прямых причин инфляции в России. Опережающий рост тарифов также стал значимым фактором раскручивания инфляции, роста издержек и потери конкурентной способности наших производителей... Высокие и постоянно увеличивающиеся тарифы не только бьют по карману населения, особенно пенсионеров и низкооплачиваемых работников, но и являются серьезным фактором, сдерживающим экономический рост. Между тем позиция неолибералов заключалась в том, чтобы государство отказалось от фиксации уровня тарифов, предоставив эту функцию рыночному механизму. Противодействием этому служит решение президента привязать рост тарифов к уровню инфляции».
Примаков напомнил и том, что правительство пыталось ограничить инвестиционную деятельность госкомпаний, но ведь «в силу сложившихся обстоятельств крупные, как правило государственные, компании, имея больше возможностей для инвестиций, призваны сыграть основную роль в росте экономики. Речь идет в первую очередь об осуществлении мегапроектов, которые могут и должны подстегнуть экономический рост».
Действительно, все крупнейшие инфраструктурные проекты, которые были предложены в прошлом году, исходили от президента, а не от правительства. Именно Путин на Петербургском экономическом форуме прошлым летом объявил о планах направления средств из «кубышки» на реконструкцию БАМа и Транссиба, строительстве ЦКАД в Подмосковье и других важнейших инвестиционных проектах, а в декабре сказал о приоритетном развитии Сибири и Дальнего Востока. Масштабная индустриализация возможна только на государственные средства – заграница (по крайней мере, Запад) не будет вкладываться в нашу промышленность, а немалая часть отечественного частного бизнеса не готова уходить из офшоров, несмотря на угрозы Владимира Путина. Действительно, зачем возвращаться на Родину, если семьи давно уже живут за границей? Абсурдно ожидать и того, что Запад будет вкладываться в наши дороги и ВПК (даже забыв о тамошнем кризисе) – зачем укреплять конкурента?
Говоря о призывах сократить бюджетные расходы на оборону, Примаков особо выделил, что такие «требования исходят от лиц, не придающих значение органичной технико-технологической связи оборонных и гражданских отраслей промышленности. В России такие связи имеют особый смысл, т.к. в военных отраслях сосредоточен солидный интеллектуальный потенциал. Развитие ОПК может и должно стать одним из важных источников экономического роста».
Отказ от реиндустриализации отечественные неолибералы порой объявляют благом – это якобы должно позволить России войти сразу в постиндустриальную стадию. Отсюда и «Сколково» как замена собственного авиапрома. «Неолибералы, по сути, игнорируют необходимость восстановить в России разрушенные в 90-е годы отрасли промышленности, в первую очередь машиностроение, – сказал Примаков. – Постиндустриальное общество – это не только хайтек и сфера услуг. В тех же постиндустриальных Соединенных Штатах сегодня существует тенденция восстановления для покрытия внутреннего спроса производств, ранее вытесненных в развивающиеся страны».
Хотя правительство и было вынуждено вслед за президентом признать, что проблемы российской экономики имеют внутренние, а не внешние причины, понять их оно просто не в состоянии. Как заявил сегодня Медведев, нужно «сокращение избыточного присутствия государства».
Хотя на Гайдаровском форуме премьер осторожничал и не говорил про приватизацию госкомпаний (что было бы явным противоречием путинскому курсу), объясняя, что речь идет об «определенном самоограничении власти в определенных отраслях экономики, в сфере ЖКХ и социального обслуживания, там, где частный инвестор и собственник по определению более эффективен, поэтому должен быть заинтересован в развитии своего бизнеса», понятно, что целью либералов является избавление государства от основных его активов, и вовсе не в секторе коммунальных услуг. И уменьшение социальных обязательств, потому что, как гласит единственно верное учение, именно свободная игра экономических сил, а не государственное планирование, обеспечивает социальную справедливость.
Как сказал Примаков, наши неолибералы, конечно, не выступают против подъема жизненного уровня населения, «однако они не согласны с необходимостью широкого маневра в экономической политике, чтобы сделать больший упор на решение социальных задач. Не способствует этому и распространение частнособственнической инициативы вширь – на здравоохранение, образовательные учреждения, науку. Разгосударствление во всех этих областях рассматривается неолибералами как магистральное направление развития России».
При этом для модернизации и реформирования здравоохранения, образования и ЖКХ толком ничего не делается – точнее, как сказал в декабрьском послании Путин, «то ли делается так, что это вызывает негативную реакцию в обществе, то ли вообще ничего не делается».
По сути, неолибералы просто не собираются реформировать экономику на нелиберальных принципах и не могут стимулировать экономический рост, сводя все к фискальной и монетаристской политике. Примаков напомнил, что в годы кризиса неолибералы еще более ужесточили свои позиции по вопросам инвестирования, особенно из средств, образующихся за счет высоких мировых цен на нефть и газ: «Даже когда цена на нефть перевалила за 100 долларов за баррель, они настаивали на том, чтобы держать все государственные «сверхприбыли» в резерве, точнее – в иностранных ценных бумагах, а не вкладывать в экономику».
Но и как монетаристы неолибералы непоследовательны – на словах много говоря о создании благоприятных условий для бизнеса, не стремятся изменить кредитную политику: Примаков напомнил звучавшие на прошлом Гайдаровском форуме заявления, что «снижение процентных ставок – контрпродуктивная мера, которая приведет вовсе не к ускорению экономического роста, а к дисбалансу и накоплению новых рисков в разных сегментах экономики».
Зато неолибералы провели целый ряд решений, которые фактически облегчили жизнь тем, кто наживается, не соблюдая вообще никакие правила, и которые Путин теперь вынужден отменять. Говоря о принятом в 2011 году решении об ограничении штрафом наказаний злостных неплательщиков налогов, Примаков констатировал, что «это не только не уменьшило число тех, кто обманывает государство в налоговой сфере, но и позволило им обойти штрафы – казна получила минимум из начисленных сумм». Кстати, столь же дилетантским было и принятое одновременно решение о замене уголовного наказания для коррупционеров на штрафы – теперь их не сажают в тюрьму, а штрафы они просто не платят.
Получается, что Кремль вынужден одновременно ревизовать принятые несколько лет назад неолиберальные решения, отбивать атаки проолигархических сил, стремящихся к новой приватизации, купировать последствия неолиберальных действий в социальной сфере и одновременно заставлять правительство заниматься стимулированием развития экономики и социальным курсом президента. И все это в условиях крайне нездоровой мировой экономической ситуации.
Мировая экономика не вышла из кризиса просто потому, что это не просто кризис, а ломка всей финансово-экономической модели, сопровождаемая военными конфликтами и угрозами безопасности всем ключевым игрокам, особенно с такой неустойчивой и переходной экономикой, как в России. Между тем Дмитрий Медведев на Гайдаровском форуме демонстрирует странный оптимизм по поводу мировой экономической ситуации, возможно, объясняемый тем, что он, как и все неолибералы, сильно преувеличивает значение монетаристских мер: «Усилия по оздоровлению финансовых систем развития мировой торговли, поддержание инвестиционной активности уже приносят результаты. Если раньше обсуждались реанимационные меры в отношении мировой экономики, то сегодня говорим о поиске точек устойчивого роста». Медведев даже согласился с тем, что мир переживает очередной этап «созидательного разрушения», который создает предпосылки для модернизации и последующего развития».
Несозидательное разрушение мы пережили в 90-х и в результате имеем не только разбалансированную экономику, но и огромное социальное неравенство. Примаков привел данные исследования Global Wealth Report 2013, согласно которым 110 российских миллиардеров контролируют 35% всех активов России, и комментарий, сделанный к ним экспертами международной финансовой корпорации Credit Suisse Group: «Во время переходного периода были надежды на то, что Россия будет преобразована в высокодоходную экономику с высококвалифицированными работниками и сильными программами социальной защиты, унаследованными от советских времен. На практике получилась почти пародия».
Как же получается, что неолиберальная идеология, которая не пользуется поддержкой населения (последний раз либеральная партия прошла в парламент в 1999 году), не отвечает курсу президента, да и в самой элите имеет множество оппонентов, продолжает оставаться направляющей для экономического блока нашего правительства? Других экономистов у нас нет? Конечно, отчасти причина и в том, что либеральные рыночные фундаменталисты, занявшие ключевые позиции в финансах и экономике в начале 90-х, продолжают удерживать их и активно воспроизводят подобные себе кадры (фактически являющиеся идеологическими ставленниками олигархата). Но еще более важная причина – в том, что, играя по правилам современной монетаристской модели западной экономики, Россия (а точнее ее новая элита) просто не знала тех фундаментальных законов и механизмов, которые приводят в действие «невидимую руку рынка», не понимала ее выгодополучателей.
Набив шишек и набравшись опыта, восстановив силы страны и оценив все масштабы коллапса нынешней мировой финансово-экономической системы, Владимир Путин давно уже готов к окончательному отрыву от либеральной идеологии в экономике – точно так же, как он совершил его во внутренней и внешней политике. Вопрос теперь только во времени, потому что отказ от неолиберальной идеологии и проводящей ее части элиты внутри страны связан с изменением правил игры на мировой финансовой арене. И делая первый шаг, нужно быть полностью готовым ко второму.
«Президент Путин в своем Послании Федеральному Собранию показал объективную картину сегодняшней России. Характерно, что он сделал упор на сложившейся далеко не радужной ситуации и предложил набор мер по выходу из далеко не легкого положения, переживаемого страной. Чрезвычайно важен при этом вывод, что экономический спад в России в 2013 году обусловлен внутренними, а не внешними причинами. В этой связи особенно острый характер приобретает проблема необходимости противодействия политике неолибералов в России.
Прежде всего, нужно отметить, что существует огромная разница между неолиберальной политикой, особенно в экономике, и истинно либеральными требованиями независимости суда, прекращения вседозволенности чиновничьего аппарата, борьбы с коррупцией, с фальсификацией на выборах, за обязательность подчинения закону всех сверху донизу. Эти либеральные идеи выдвигаются и поддерживаются в нашей стране широкой общественностью, политическими партиями различных взглядов. Однако без четкого определения грани между либеральными идеями и принципами неолибералов, без противодействия неолиберальной политике возникает угроза серьезных негативных последствий для России.
Если говорить о платформе российских неолибералов, то основная ее составляющая — это уход государства из экономики. Наши неолибералы не только исходят из универсальности западных экономических теорий, даже без учета их эволюции, но главное, не считаются с особенностями и степенью развития рыночных отношений в России. Основоположник неолиберализма австрийский ученый Фридрих Хайек отмечал, что свобода в экономической деятельности создает главное условие быстрого экономического роста и его сбалансированного характера, а свободная конкуренция призвана обеспечить открытие новых продуктов и технологий. В абстрактной форме такая констатация не вызывает сомнений. Но можно ли считать, что в современной России сам рыночный механизм без государственного участия уже способен обеспечить рост и сбалансированность экономики, а низкий уровень конкуренции достаточен для достижения технико-технологического прогресса? Однозначно нет. Конечно, это не означает навечного доминирования государства в экономике. Но это необходимо в определенные исторические периоды, а я считаю, что сегодня мы находимся именно в таком периоде.
Помимо всего прочего наши неолибералы вообще не учитывают уроки кризиса 2008—2009 годов. Известно, что в США и в странах Евросоюза во время кризиса было усилено влияние государства на экономику. Такой тренд сохраняется.
Стержень, вокруг которого раскручивались противоречия в экономической политике, это – выбор: на чем сделать акцент, на стимулировании экономического роста либо на финансовой консолидации.
Еще один принцип неолиберализма в том, что свободная игра экономических сил, а не государственное планирование, обеспечивает социальную справедливость. Однако этот вывод не выдержал столкновений с действительностью и в капиталистических странах, где, в частности, государство ввело прогрессивную шкалу налогообложения, способствующую перераспределению доходов в пользу малоимущих. Что касается России, то без государственного индикативного планирования экономического роста (конечно, не директивного) вообще невозможно преодолеть отставание в жизненном уровне населения от развитых западных стран.
Николай Стариков
А такое отставание несомненно существует. Имеет место и огромное неравенство в доходах. По данным, приведенным в исследовании Global Wealth Report 2013, опубликованном на сайте международной финансовой корпорации Credit Suisse Group, 110 российских миллиардеров контролируют 35% всех активов. Эксперты этой международной корпорации заключили: „Во время переходного периода были надежды на то, что Россия будет преобразована в высокодоходную экономику с высококвалифицированными работниками и сильными программами социальной защиты, унаследованными от советских времен. На практике получилась почти пародия“.
Наши неолибералы, конечно, не выступают против подъема жизненного уровня населения. Однако они не согласны с необходимостью широкого маневра в экономической политике, чтобы сделать больший упор на решение социальных задач. Не способствует этому и распространение частнособственнической инициативы вширь — на здравоохранение, образовательные учреждения, науку. Разгосударствление во всех этих областях рассматривается неолибералами как магистральное направление развития России.
Острые противоречия с российскими неолибералами сохраняются также в оценке взаимоотношений между отдельной личностью и обществом. Неолибералы по сути отрицают, что свобода, демократия совместимы с определенными самоограничениями в пользу общественных интересов. Естественно, границы этих самоограничений должны определяться в каждом конкретном случае в законодательном порядке.
Стержень, вокруг которого раскручивались противоречия в области экономической политики России, это — выбор: на чем сделать акцент, на стимулировании экономического роста либо на финансовой консолидации. Конечно, стимулирование экономического роста и финансовая консолидация не должны исключать друг друга. Но найти оптимальное сочетание между ними в экономической политике и практике нашего государства необходимо. Особенно в условиях, когда в России резко снизились темпы экономического роста, да и не происходит ощутимого преодоления отставания в производительности труда, инновационном развитии.
Один из наиболее приближенных к жизни российских экономистов Андрей Клепач писал: „Для российской экономической политики, особенно в последние годы, характерно доминирование бухгалтерского финансового подхода над политикой развития, доминирование поддержки банковского сектора над поддержкой реального“. К слову, Андрей Клепач принадлежит к немногим в правительстве (он — заместитель главы минэкономразвития), которые открыто высказывают свое мнение, как правило, несовпадающее с неолибералами. Многие же предпочитают признавать ухудшающуюся обстановку, но и только.
А теперь о конкретике, которая свидетельствует о том, что были предприняты усилия, подчас непоследовательные, но в целом немалые, чтобы не дать российской экономике в 2013 году соскользнуть на неолиберальную плоскость. Я далек от апологетики всего, что делалось в экономической политике России в 2013 г., от утверждений в безошибочности официальной линии, подчас отстраняющейся от решительных мер. Но полностью поддерживаю то, что было сделано с целью, чтобы не восторжествовали неолибералы в нашей экономике.
По данным, приведенным в исследовании Global Wealth Report 2013, опубликованном на сайте международной финансовой корпорации Credit Suisse Group, 110 российских миллиардеров контролируют 35% всех активов.
Выступая за резкое и незамедлительное сокращение роли государства в экономике, наши неолибералы поставили своей задачей провести новую масштабную приватизацию государственной собственности, настаивают на максимальном охвате приватизацией важнейших для страны государственных предприятий. В качестве мотива выдвигается не только пополнение доходной части бюджета, но и недостатки в работе государственных компаний. Однако давайте говорить прямо: вместо того чтобы сосредоточиться на действительной необходимости устранить серьезные недостатки в работе государственных предприятий, сделать их более открытыми, неолибералы выдвигают курс на сплошную и быструю приватизацию. И что особенно важно подчеркнуть, до приватизации хотели бы вывести госпредприятия из процесса концентрации и централизации производства. На заседании правительства 25 октября 2012 года новый премьер-министр назвал „абсолютно неправильным, когда государство в лице контролируемых им структур приобретает профильные и непрофильные активы“. Многими экспертами все это справедливо расценивалось как реальные ограничители для инвестиционной активности государственных компаний. Правда, от политики полного сдерживания деятельности госкомпаний в инвестиционной сфере в 2013 году пришлось отойти, но не полностью.
Между тем в силу сложившихся обстоятельств крупные, как правило, государственные компании, имея больше возможностей для инвестиций, призваны сыграть основную роль в росте экономики. Речь идет в первую очередь об осуществлении мегапроектов, которые могут и должны подстегнуть экономический рост. Конечно, при этом нельзя не уделять должного внимания частным предприятиям, но разве не ясно, что без государственных крупных компаний мегапроекты неосуществимы. Это отнюдь не означает, что выбор мегапроектов возможен без предварительного тщательного анализа их многосторонней значимости и их окупаемости. Ставка на крупный бизнес не должна приводить также к ослаблению поддержки малых предприятий, которая весьма важна, особенно в решении задач инновационного развития, занятости, производства комплектующих изделий, товаров, необходимых населению. Но в условиях неразвитой свободной конкуренции не приходится рассчитывать на то, что малый и средний, а не крупный бизнес уже в настоящее время может стать локомотивом серьезного экономического роста в России.
Противоборство с неолибералами по вопросам безграничной приватизации иллюстрирует хотя бы такой факт. Правительство первоначально намечало приватизировать к 2016 году 100% „Роснефти“, „РусГидро“, „Зарубежнефти“, „Совкомфлота“, ВТБ, „Росагролизинга“, Россельхозбанка, а „Объединенной зерновой компании“ даже к 2014 году. Стало необходимым принятие 27 июня 2013 года уже другого решения правительства, содержащего коррективы, по сути исключающие приватизационные аппетиты. Такое решение не было инициировано изнутри.
Одним из аргументов российских неолибералов против сосредоточения усилий на экономическом росте служат рассуждения о неизбежности в таком случае инфляционной волны в экономике. При этом игнорируется тот факт, что основные причины инфляции в России — в „немонетарных факторах“. В первую очередь к ним относится монополизация, распространенная во всей экономической структуре России. Кстати, неолибералы, как правило, подчеркивают монополизм, свойственный естественным монополиям, но не обращают должного внимания на „олигархический“ монополизм частного бизнеса, который, например, приводит через торговлю к росту цен на продовольствие и другие товары потребления населения. Вот где одна из прямых причин инфляции в России.
Опережающий рост тарифов также стал значимым фактором раскручивания инфляции, роста издержек и потери конкурентной способности наших производителей. Высокие и постоянно увеличивающиеся тарифы не только бьют по карману населения, особенно пенсионеров и низкооплачиваемых работников, но и являются серьезным препятствием экономического роста. Между тем позиция неолибералов заключалась в том, чтобы государство отказалось от фиксации уровня тарифов, предоставив эту функцию рыночному механизму. В виде противодействия этому служит решение президента привязать рост тарифов к уровню инфляции.
Конечно, вопрос об уровне тарифов совсем непростой. Торможение их постоянного роста должно сочетаться с созданием условий для модернизации средств производства монополий, а в ряде случаев, особенно в отношении нефтяных, газовых компаний, РЖД, поощрением их развития и по вертикали и по горизонтали.
Немаловажное значение для стимулирования экономического роста имеет смягчение кредитной политики финансовых властей, что призвано активизировать весь бизнес через повышение доступности кредитов, в том числе долгосрочных. Неолибералы часто распространяются на тему о создании условий, благоприятствующих бизнесу. Может ли соответствовать этому стремлению позиция неолибералов, прозвучавшая на Гайдаровском форуме в Москве в январе 2013 года: „Снижение процентных ставок — контрпродуктивная мера, которая приведет вовсе не к ускорению экономического роста, а к дисбалансу и накоплению новых рисков в разных сегментах экономики“.
Необходимость противоположных мер была высказана помощником президента Андреем Белоусовым, который задал отнюдь не риторический вопрос: „Почему у нас до кризиса процентные ставки были порядка 7%, а сейчас по кредитам больше года — 11% в среднем“. Он подчеркнул, что высокие процентные ставки существенно тормозят инвестиционную активность в России.
В годы кризиса неолибералы еще более ужесточили свои позиции по вопросам инвестирования, особенно из средств, образующихся за счет высоких мировых цен на нефть и газ. Даже когда цена на нефть перевалила за 100 долларов за баррель, они настаивали на том, чтобы держать все государственные „сверхприбыли“ в резерве, точнее в иностранных ценных бумагах, а не вкладывать в экономику. Однако в этом вопросе для неолибералов намечается предел. В.В.Путин предложил часть средств Фонда национального благосостояния вкладывать в реализацию крупных инфраструктурных проектов — на реконструкцию Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожных магистралей, а также на строительство Центральной кольцевой автодороги в Московской области. И не только, но и на многостороннее развитие Дальнего Востока и Восточной Сибири, что особенно важно.
Очевидно, надо вернуться и к масштабному проекту строительства высокоскоростной магистрали Москва-Казань. При всех своих рисках этот проект, о котором тоже говорил президент, сопоставим с реконструкцией Транссиба. Меняя логистику и скорость движения грузов и пассажиров, он может качественно изменить образ жизни центральных российских регионов.
Но все-таки есть ли у нас финансовые средства кроме Резервного фонда и Фонда национального благосостояния для задействования в целях экономического роста? Дело в том, что существуют крупные резервы, которые не используются главным образом из-за плохого администрирования.
Приведу несколько примеров.
Бюджет традиционно характеризуется крайней неравномерностью выполнения в течение года. Обычно в первом квартале финансируется лишь около 10-11% годового плана по Федеральным целевым программам (ФЦП), к середине года — 25% и только к концу года выполнение плана достигает 95 и более процентов. В первую половину года бюджетные средства оказываются замороженными, а предприятия, исполнители программ, вынуждены обращаться за дорогими банковскими кредитами.
Не налажен в должной мере кадастровый учет объектов недвижимости. По информации Федеральной налоговой службы, в государственном кадастре недвижимости нет данных на владельцев примерно 40% объектов. По подсчетам ряда экономистов, из-за неучтенных собственников только региональные бюджеты недополучают около 45 млрд рублей ежегодно.
О низкой эффективности управления инвестиционными проектами свидетельствует продолжающийся рост „незавершенки“. В результате широко распространенной практики подписания фиктивных актов выполненных работ (особенно строительно-монтажных и ремонтно-строительных) бюджет теряет огромные суммы.
Выплата значительным числом работодателей заработной платы работникам в конвертах приводит к неуплате налога на доходы физических лиц (особенно страдают при этом региональные бюджеты).
Этим перечнем дело не ограничивается. Российские собственники выводят свои активы за рубеж, а затем возвращают часть из них, пользуясь офшорной юрисдикцией. В итоге этой схемы — а она далеко не единственная — прямые потери госбюджета страны. И далеко не малые. В Послании Федеральному Собранию в 2013 году президент привел такие данные: через офшоры или полуофшоры прошли российские товары общей стоимостью 111 млрд долл., то есть пятая часть всего нашего экспорта. Половина из 50 млрд долл. российских инвестиций в другие страны также пришлась на офшоры. При этом президент отметил, что в этой сфере ничего не сделано за год. Предложения на этот счет весьма конкретные: компаниям, зарегистрированным в иностранной юрисдикции, нельзя будет пользоваться мерами государственной поддержки, включая кредиты ВЭБа и государственные гарантии. Этим компаниям также должен быть закрыт доступ к использованию госконтрактов. Ряд российских компаний уже заявили о выходе из офшорных зон. А ведь не так все просто. В этих зонах под видом местных остаются структуры, принадлежащие российским компаниям.
Серьезная проблема создается невыплатой налогов в полном объеме. В.В.Путин внес в Госдуму 11 октября 2013 года поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, подлежащие вернуть следователям право возбуждать дела по налоговым преступлениям, т.е. возращение к тому порядку, который в 2011 году был отменен — тогда возбуждение дел было передано исключительно налоговой службе. Эта поправка встретила сопротивление российских организаций, представляющих бизнес. Нужно сказать, что их позиция имеет свою логику. Проблема продолжает обсуждаться. Не исключено, что будет найдена формула, не передающая правоохранительным органам абсолютную власть при решении вопроса, призванного создать преграду для злостных неплательщиков налогов. В этом процессе должна быть активно задействована налоговая служба.
Но здравые проявления по защите бизнеса, очевидно, не следует связывать с позицией неолибералов, которые провели в 2011 году решение по сути об ограничении штрафом наказаний злостных неплательщиков налогов. Это не только не уменьшило число тех, кто обманывает государство в налоговой сфере, но и позволило им обойти штрафы — казна получила минимум из начисленных сумм.
Жесткое сокращение расходов бюджета — таково одно из основных правил, навязываемых неолибералами. Конечно, экономия средств, сосредоточение их на остро необходимых расходах, особенно в социальной области, действенный контроль за исполнением бюджетных расходов — все это крайне необходимо. Но в неолиберальных схемах такая экономия выражается в том, чтобы любым путем сжать расходы бюджета.
Неолибералы, в частности, ратуют за сокращение бюджетных трат на военную промышленность. Не буду останавливаться на военно-политической стороне такого требования, которое игнорирует тот факт, что события на мировой арене далеко не располагают к пассивности в деле наращивания обороноспособности России как и ее роли в антикризисных, антитеррористических акциях, без чего она не может сохранить статус глобальной державы. Однако хотел бы подчеркнуть, что такие требования исходят от лиц, не придающих значение органичной технико-технологической связи оборонных и гражданских отраслей промышленности. В России такие связи имеют особый смысл, т.к. в военных отраслях сосредоточен солидный интеллектуальный потенциал. Развитие ОПК может и должно стать одним из важных источников экономического роста.
Это не означает милитаризацию экономики, возвращения к тем временам, когда военные расходы резко ограничивали производство товаров и услуг, необходимых населению. Сегодня картина совершенно иная, хотя неолибералы по сути игнорируют необходимость восстановить в России разрушенные в 90-ые годы отрасли промышленности, в первую очередь машиностроение.
Отказ от реиндустриализации ими нередко рассматривается в виде задачи вхождения России в постиндустриальную стадию. Между тем переход в постиндустриальную экономику в сегодняшней практике отнюдь не предполагает отход от традиционных отраслей, которые в том числе решают и проблему занятости. Естественно, речь идет об оснащении их современной техникой. Именно на такой основе и должна решаться проблема занятости. Мы часто говорим о низкой безработице как о некоем достижении. Между тем в развитых странах более высокая, чем у нас безработица порождается главным образом инновационным развитием, внедрением технико-технологических достижений, сокращающих число занятых на производстве. Поэтому для России важно, чтобы низкая безработица была в условиях реиндустриализации страны. Хотелось бы, чтобы минобрнауки сосредоточилось и на переподготовке сокращающихся работников, а также на восстановлении профтехобразования в России.
Постиндустриальное общество — это не только хайтек и сфера услуг. В тех же постиндустриальных Соединенных Штатах сегодня существует тенденция восстановления для покрытия внутреннего спроса производств, ранее вытесненных в развивающиеся страны. Согласен с выводом, сделанным председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко: „Страна, претендующая на лидерство и обеспечивающая собственную безопасность, не может специализироваться всего лишь на 2-3 высокотехнологичных отраслях. Поэтому перед нами стоит наисложнейшая задача — занять достойное место в новом технологическом укладе при одновременном инновационном восстановлении отраслей промышленности старого уклада“. Необходимость реиндустриализации диктуется также тем, что у нас постоянно растет доля торговли в ВВП. Это отражает рост потребления, которое в весьма значительной степени покрывается импортом, а не отечественной продукцией.
Каковы основные результаты противодействия неолиберальным идеям в российской экономике 2013 года?
Прослеживаются „красные линии“, которые вопреки активности неолибералов не были пересечены в России в минувшем году. Не произошло отказа от государственной собственности на те объекты промышленности, которые крайне необходимы не только для безопасности, но и жизнедеятельности России.
Не произошел откат и от решения социальных вопросов, поставленных в майских указах президента, хотя не все так благополучно в этой области. В своем Послании Федеральному Собранию в 2013 году президент подчеркнул необходимость не только увеличения бюджетного финансирования здравоохранения, образования, но и реформирования этих отраслей, а также ЖКХ. При этом было отмечено, что такие реформы не проводились должным образом. „То ли делается так, что это вызывает негативную реакцию в обществе, то ли вообще ничего не делается. Конечно, при такой работе мы не достигнем поставленной цели“, — заявил Путин.
Можно прийти к общему выводу: правительство в 2013 году не сосредоточилось на системе мер, необходимых для экономического роста. Процитирую заявление 17 декабря 2013 года помощника президента Андрея Белоусова: „Был принят целый комплекс мер по ускорению экономического роста. Пока мы ускорения экономического роста не видим. Возникает вопрос: что происходит?“. По его словам, одной из площадок, на которой могут быть рассмотрены вопросы, связанные с неэффективностью ранее предпринимавшихся мер по стимулированию экономического роста и исправлению ситуации, является президиум Экономического совета при президенте РФ.
Произойдет ли перелом в 2014 году? Нужно сказать, что жизнь заставила ряд руководителей, придерживающихся неолиберальных взглядов, отступать от некоторых своих первоначальных представлений. Накануне Нового 2014 года в газете „Ведомости“ была опубликована статья министра финансов Антона Силуанова. Он подчеркнул ряд моментов: во-первых, по его словам, дальнейшее сокращение государственных расходов может только усугублять кризисную ситуацию. Во-вторых, решение задачи стабильности государственных финансов „заключается в комбинировании мер среднесрочного и долгосрочного характера, обеспечивающих устойчивое развитие. В краткосрочном же периоде важно восстановление темпов экономического роста, поэтому фискальная консолидация, если она проводится, не должна быть слишком активной“. Переход министерства финансов на такую позицию, если он состоится, безусловно, внушает оптимизм.
Есть еще один важный итог 2013 года, на этот раз не относящийся к экономике: не удалось провести идею о демократизации нашего общества за счет ограничения государственной власти. Необходимость перевода ряда государственных функций на общественный уровень очевидна. Но этот процесс не может и не должен ассоциироваться с ослаблением властных структур. Если такое произойдет, то процесс демократизации в нашей стране захлебнется, перерастая в неуправляемую стихию.
Такая постановка абсолютно не противоречит, а наоборот, подкрепляет те идеи, с которыми выступил президент Путин в ежегодном Послании Федеральному Собранию. Среди таких идей широкая общественная дискуссия с тем, чтобы общественные инициативы становились частью государственной политики, а общество контролировало бы их исполнение.
Особое значение имеет предложение провести откровенный разговор в обществе на тему межэтнических отношений. „Здесь, — сказал президент, — фокусируются многие наши проблемы, многие трудности социально-экономического и территориального развития, и коррупция, и изъяны в работе государственных институтов, и, конечно же, провалы в образовательной и культурной политике, что зачастую приводит к искаженному пониманию истинных причин межэтнического напряжения“. Межэтнические конфликты провоцируют выходцы из некоторых южных районов России и продажные сотрудники правоохранительных органов, которые „крышуют“ этническую мафию, и „русские националисты“, готовые бытовые трагедии сделать поводом для вандализма и кровавых разборок.
Несколько слов о другой теме — о внешней политике России в минувшем году. Несомненно, нашим достижением является инициатива по выходу из опаснейшей ситуации, когда президент Обама заявил о неизбежности военного удара по Сирии. Если бы это произошло, то последствия не могли бы ограничиться дестабилизацией в регионе, ростом терроризма во всем мире. Нужно, как мне представляется, прямо сказать, что в таком случае перестала бы существовать Организации Объединенных Наций, функции которой были бы в лучшем случае ограничены лишь областью социальных проблем. Как известно, постоянные члены Совета Безопасности ООН, в состав которых входят и Россия, и Китай, имеют право „вето“ на применение военной силы, за исключением самообороны от внешней агрессии. А в любом другом случае применение военной силы по Уставу ООН возможно только при соответствующем решении Совета Безопасности. То, к чему готовились США, было вооруженное вмешательство в дела Сирии при полном игнорировании Совета Безопасности ООН. Российская инициатива, предложившая ликвидацию сирийского химического оружия, политические меры по выходу из внутреннего кризиса в Сирии, сорвала реальную опасность военного удара Соединенных Штатов по суверенному государству.
Вторым не менее значимым достижением российской дипломатии стало важнейшее участие нашей страны в процессе переговоров с Ираном об его отказе от действий, которые могли бы быть связаны с обретением ядерного оружия. И тем не менее скажем, что два этих весьма серьезных результата на острых направлениях международной жизни еще не означают радикальных перемен к лучшему в двусторонних отношениях России и США, в международной политике. Опять стали заявлять о себе прямые и косвенные признаки того, что нам еще предстоит много поработать.
Тем не менее, можно констатировать, что Россия в 2013 году существенно укрепила свою роль великой державы, политика которой служит стабилизации обстановки в мире.
Не могу не сказать и о тех экономических мерах, которые предприняла Россия для выхода из опаснейшего кризиса в нашей братской Украине. Здесь и снижение на 1/3 цены на поставляемый российский газ, и выделение 15 млрд долл. на скупку украинских ценных бумаг, и развитие кооперационных связей в промышленности, особенно в самолетостроении, атомной и космических областях. Считаю, что это абсолютно правильный отход от слов: либо Украина выбирает статус ассоциированного члена Евросоюза, либо она вступает в Таможенный союз. Таких категоричных „либо-либо“ не должно быть в отношениях между нашими странами, что и было продемонстрировано во время переговоров президентов России и Украины 17 декабря минувшего года. Это отнюдь не означает отхода от нашей оценки того, что происходит на Украине, как организованную и беспрецедентно поддерживаемую США и их европейскими союзниками акцию, направленную на свержение режима, который, несмотря на ряд ошибок, законно представляет власть на Украине.»
* По материалам выступления на заседании «Меркурий-клуба» 13 января 2014 года
| Сохранить | 41 |
Свежие комментарии